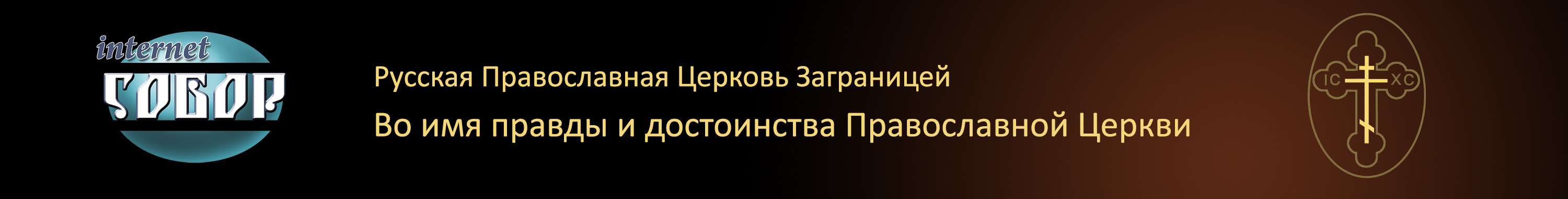Хомяков и его богословские взгляды

Когда в 1860 году, 25 сентября, в день преп. Сергия Радонежского, в селе Ивановском Смоленской губернии, скончался А. С. Хомяков, событие это прошло в России почти незамеченным. Его хоронили в Москве, на кладбище Данилова монастыря. За гробом его шла лишь небольшая кучка людей. Нигде не служили официальных панихид. На панихиде в Венской Посольской церкви, отслуженной по инициативе братьев Самариных, было много представителей славян, были католики и униаты, но не было ни одного чиновника Посольства. Управляющий Посольством даже запретил им присутствовать на панихиде, считая её неуместной демонстрацией.
Великие и оригинальные проповедники истины часто бывают не поняты своими современниками. Новая форма выражения древнего учения Церкви, новый подход к обличению ереси, новое освещение русских национальных начал и практические из них выводы, — многим показались чем-то, колеблющим основы. Пророки в своём отечестве нередко получают признание только после своей смерти.
Такова же была и судьба А. С. Хомякова.
Если в ближайшие дни после его кончины русское общество едва заметило, кого оно утратило, то уже через несколько месяцев имя его и его значение стали шире известны из посвящённого ему выпуска журнала "Русская Беседа". В ней был помещён ряд статей его друзей и сотрудников с оценкой его разнообразных трудов и с ценными биографическими данными. В сущности, эти статьи долгое время были почти единственным источником для последующих его биографических очерков. Ими широко пользовался автор большого сочинения о Хомякове проф. Завитневич, [1] который, однако, далеко не исчерпал всех источников, на что справедливо указал в своей обширной критике проф. прот. П. Флоренский. [2] И, как ни странно, едва ли не лучшее исследование о Хомякове написано было уже после Завитневича, французом, католическим аббатом Грасиэ. [3]
Но не напрасно Спаситель сказал Своим ученикам: "Вы свет миру. Не может укрыться город, стоящий вверху горы" (Мф 5.14).
Когда начали выходить из печати сочинения Хомякова (ранее или непропущенные цензурой или, для не знавших его близко, не связанные с его именем, как не подписанные им), то многие стали понимать, что он был именно таким градом Христовым на верху горы, до времени скрытым от глаз наносным туманом предвзятых понятий и форм.
Те, кто хорошо знали Хомякова и его труды, понимали, что всеобщее признание его значения есть дело времени: И.С. Аксаков, вскоре после его смерти, писал графине Блудовой: "Мудрец с младенческой простотой души, аскет, постоянно одарённый святым весельем души, поэт, философ, пророк, учитель Церкви, Хомяков, как и в порядке вещей, был при жизни оценён очень немногими, но значение его будет расти с каждым годом. Его слово ещё звучит, несётся через современные поколения к поколениям грядущим".
Да. Это слово с годами приобретало все большую силу, распространялось всё шире и шире. Теперь, через полтораста лет после его рождения и 94 года после его кончины, слово Хомякова звучит всё громче и убедительнее. Его главные труды, труды богословские, не устарели, а сохраняют свежесть и силу, присущую творениям, вещающим вечную истину.
Я не буду долго останавливаться на одной из причин, делавших слово Хомякова столь веским. Я имею в виду его энциклопедические дарования. Все биографы Хомякова с изумлением останавливаются перед его многосторонностью. Кандидат математических наук Московского Университета, историк и филолог, во время поездки по имениям составивший напечатанный в Известиях Академии Наук сравнительный словарь более тысячи санскритских слов, знаток нескольких древних и новых языков, отличавшийся в боях кавалерист, механик-изобретатель, рачительный и успешный сельский хозяин, исследователь вопросов права и народного хозяйства, философ и поэт, а больше всего богослов и христианин, — Хомяков с молодых лет поражал своих друзей тем, что в каждой из этих областей он проявлял себя не дилетантом, а проникал в самую глубину, каждого вопроса, высказывая новые и неожиданные мысли.
Его ум отличался невероятной самостоятельностью, и он не боялся выступать в защиту истины против большинства, хотя бы и оставаясь в видимом одиночестве.
Когда Хомяков появился в московских кружках сороковых годов, то не только будущие западники, но и такие столпы будущего славянофильства, как Юрий Самарин и братья Киреевские, находились под влиянием модной тогда философии Гегеля. Ещё в 1842 г., работая над диссертацией о Стефане Яворском, Юрий Самарин приходил к странному заключению, что "Православие явится тем, чем оно может быть, и восторжествует только тогда, когда его оправдает наука, что вопрос о Церкви зависит от вопроса философского и что участь Церкви неразрывно связана с участью Гегеля". Вероятно, Самарину позднее было бы стыдно перечитывать эти строки. Я привожу их только для того, чтобы показать, какое сильное влияние оказывала нехристианская западная философия на лучшие умы русских людей, соприкоснувшихся с иностранной мыслью и наукой.
По свидетельству участников этих собраний, Хомяков один не поддавался влиянию Гегеля. Только у него одного уже были вполне сложившиеся православные убеждения. Затем убеждения его перешли к другим и образовался т.н. кружок славянофилов.
Как у него сложились эти убеждения? Прежде всего надо приписать их влиянию семьи. Сам Хомяков писал о себе: "Я был воспитан в благочестивой семье и никогда не стыдился строгого соблюдения обрядов Церкви" (3-е письмо к Пальмеру). Но в тогдашнем светском обществе, увлечённом западными влияниями, семья Хомяковых в этом отношении была некоторым исключением. В том же письме Пальмеру Хомяков писал: "Не сомневайтесь в силе Православия. Хотя я ещё не стар, но помню то время, когда в обществе оно было предметом глумления и явного презрения". Он говорил, что строгое соблюдение церковных уставов навлекало на него "то название лицемера, то подозрение в тайной приверженности к Латинской Церкви; в то время никто не допускал соединения Православных убеждений с просвещением" (там же).
Хомяков очень рано почувствовал, что принадлежит в обществе к исповедническому меньшинству. Когда в 1815 г. семья Хомяковых должна была приехать в Петербург, потому что их Московский дом сгорел, то новое место произвело на мальчиков Хомяковых (Алексея и его старшого брата Фёдора) странное впечатление. Им показалось, что их привезли в языческий город, где их будут заставлять переменять веру, и они решили между собою, что не согласятся на это, что бы им ни угрожало.
Простой верующий народ был духовно ближе Хомяковым, чем проникнутая западной культурой аристократия. Там религиозность в то время господствовала в духе интерконфессионального Священного Союза. Не могла Хомякову помочь в уяснении его православного мировоззрения и наша богословская наука того времени.
Православие блюлось верующим, но чуждым научной формулировки своей веры народом, в монастырях с учениками Паисия Величковского, в Саровской Пустыни, одним словом, там, где истинам веры научались не в богословской школе, а в творениях св. Отцов и в православном быте.
Надо полагать, что если молодой Хомяков полюбил этот быт и приобрёл свои православные воззрения из приобщения к жизни Церкви, то этим он более всего обязан своей матери, Марии Алексеевне, рождённой Киреевской. Отец его вряд ли мог иметь на него такое влияние. Он был человек образованный и начитанный, но не лишённый легкомыслия и, в частности, увлекавшийся азартной карточной игрой. Руководство ходом семейной жизни было в руках Марии Алексеевны, совмещавшей глубокие православные воззрения с твёрдым и властным характером. Упомяну, между прочим, что она была большой почитательницей преп. Серафима Саровского. Сам Хомяков писал Пальмеру, что матери он обязан и своим направлением и неуклонностью в этом направлении.
Мне невозможно сейчас дать сколько-нибудь полный биографический очерк Хомякова. Внешне биография его, впрочем, не содержит особенно замечательных событий. Однако, всё-таки надо кратко её коснуться.
Закончив образование в Москве со званием кандидата математических наук, Хомяков поступил в кирасирский полк, стоявший на юге, но скоро перешёл в Петербург, в Конную Гвардию. Он находился там перед самым декабрьским бунтом, ни в какой мере не разделяя взглядов декабристов, с которыми, конечно, встречался и не мало спорил. В декабре 1825 г. он находился в Париже, а о бунте получил подробное и правдивое письмо от своего отца. В Петербурге, в свободное от службы время, Хомяков занимался расширением своих знаний, посещая библиотеки, музеи и разные кружки.
Петербургская жизнь и даже парижская нисколько не отразились на его православном быте. Где бы он ни находился, он строго соблюдал все церковные посты. Проведя два года в поездке по разным странам, Хомяков в 1827 г. вернулся в Петербург, где был постоянным участником собраний у Одоевского и Карамзиной, защищая православные русские взгляды от западников. Когда началась война с Турцией, он в 1828 г, постудил в Белорусский гусарский полк и отличился в боях. После окончания войны Хомяков вышел в отставку и проживал частью в имениях, частью в Москве.
32-х лет от роду Хомяков женился на Екатерине Мих. Языковой, сестре поэта. Шестнадцать лет жизни с нею были самыми счастливыми для Хомякова. Ея кончина его глубоко поразила. Когда Хомяков писал о браке, что для "мужа его подруга не просто одна из женщин, но жена, её сожитель не просто один из мужчин, но муж" и что "для них обоих остальной род человеческий не имеет пола", [4] то он говорил как бы из опыта своего собственного подлинно-христианского брака. Этому браку у него предшествовала чистая жизнь девственника, беречь которую учила его мать. Когда Хомяков был юношей, она однажды призвала его и его брата Фёдора, говорила им о важности соблюдения седьмой заповеди, так легко нарушавшейся в их обществе мужчинами, и сказала им, что проклянёт их, если они впадут в грех любодеяния.
Кончина жены, Екатерины Михайловны, послужила поводом для замечательного разговора Ал. Степ, с Самариным, долго остававшегося незамеченным его биографами. Я не буду приводить его целиком, но только хочу сказать, что в нём Хомяков говорил о двух случаях своего молитвенного опыта, когда Господь посылал ему сначала достижение какой-то особой духовной высоты, а затем низводил его вниз, давая ему видеть все свои грехи. Хомяков никого не посвящал в свою внутреннюю жизнь и приоткрыл её только в этот раз Юрию Самарину. Он ревниво оберегал сокровище своих молитвенных подвигов. Тот же Самарин рассказывает, как ночуя с Хомяковым в одной комнате, он был невольным свидетелем его ночной молитвы до утра, которая, как сказал ему человек, всюду его сопровождавший, повторялась почти каждую ночь. По словам Бартенева, эта ночная молитва однажды спасла Хомяковскую усадьбу от ограбления. Воры не решались проникнуть в дом, ибо в одной комнате горела свеча. Они видели в окно, что кто-то стоит на молитве, и молитва этого человека, т.е. Хомякова, продолжалась до утра, когда воры были схвачены проснувшимися слугами.
Рассказывая о ночной молитве и слезах Хомякова, Самарин замечает: "На другой день он вышел к нам весёлый, бодрый, с обычным добродушным своим смехом".
Весёлость, добродушный смех над самим собою, желание видеть то доброе, что есть в каждом человеке, высокое понимание человеческого достоинства и подлинной свободы, приобретаемой познанием истины, — привлекали к Хомякову сердца людей. Он не был отвлечённым мыслителем, и его проповедь любви, как основы Христианства и Церкви, не была только интеллектуальной и теоретической, но была проявлением его внутреннего содержания. Из заповеди любви вытекали и исторические воззрения Хомякова и его социальные и государственные убеждения, его хлопоты об освобождении крестьян и его мероприятия по переведению своих крестьян на оброк, т.е. фактическое их освобождение задолго до издания манифеста Императора Александра II.
Хомяков живо чувствовал, что принадлежа к Церкви, он принадлежит к Телу Христову, к роду избранному, выделенному из остального человечества, к особому благодатному организму. Он ничем так не дорожил, как своей принадлежностью к этому телу, и больше всего боялся в чём бы то ни было, в учении или жизни, отделиться от Церкви. Он часто упрекал себя в лени, но на самом деле был натурой деятельной, стремившейся претворять слово в дело. И мысль его была одновременно и смелой, и смиренной.
Смелой потому что у него была непоколебимая вера в силу истины. Смиренной потому, что он знал, что истина эта принадлежит не ему, что она не есть домысел его глубокого ума и блестящего таланта, а принадлежит Церкви. Он знал и исповедовал, что она открыта ему Богом в Церкви в меру его приобщения к её благодатной жизни. И проповедуя истину Св. Церкви, Хомяков искал её не столько в сочинениях учёных богословов того времени, сколько в первоисточниках: в Слове Божием, непосредственно в учении Свв. Отцов, в предании церкви, в её богослужении и молитве.
Совершенно особый дар синтеза, проникновение в самую глубину всякого вопроса и широта ума и образования дали возможность Хомякову оригинально, по новому подойти к ряду вопросов. В существующем разделении между Востоком и Западом он увидел то, чего до него не замечали православные полемисты. До него полемика с Католичеством и Протестантством шла на почве только их собственных понятий. Хомяков оторвался от этого уровня, он показал их заблуждения, как они виднеются сверху, из лона Единой Святой, Соборной и Апостольской Церкви.
Хомяков показал, что, как в Католичестве, так и в Протестантстве лежит в основе один и тот же грех против любви и единства. Отделение Рима произошло на почве местной гордости. Но частное мнение, безразлично личное или областное, присвоившее себе в области Вселенской Церкви право на самостоятельное решение догматического вопроса, заключало в себе постановку и узаконение Протестантства, т.е. "свободы исследования, оторванной от живого предания о единстве, основанном на взаимной любви (Т. II, с. 50).
Очень ярко обрисовывает Хомяков и отделение Запада от Православного Востока и плоды этого отделения. Он высказывает горькие для Запада истины, он ставит вопросы прямо и остро. Но за этой остротой и иногда даже иронией, видится любовь к отделившимся и искренняя скорбь о том, что они поддались заблуждениям. Поэтому его брошюры и соглашались печатать издательства, принадлежавшие лицам Западных исповеданий. Протестантские издатели выражали уважение к православному автору за честность его мысли в полемике с их учением.
Действительно, критика Западных начал у Хомякова отнюдь не была односторонней или продиктованной недоброжелательностью. Напротив, сила его полемики с Западными богословами в значительной степени определялась именно тем, что он отдавал должное тому доброму, что ещё сохранялось у Западных народов. Доброжелательность и справедливость придают особую силу Хомяковской критике.
Хомяков хорошо знал историю и жизнь Запада и, по чуткости своей ко всякой правде, ясно видел, что Православие, некогда бывшее достоянием и Западного мира, оставило в нём немало своих благодатных следов. Православие когда-то процветало там, и в этом смысле Хомяков назвал Запад, в своём стихотворении "Мечта", страной святых чудес. Давая Западу такое название, Хомяков отметил, что чудеса эти относятся к далёкому прошлому, а теперь:
"Светила прежние бледнеют, догорая,
И звезды лучшие срываются с небес."
Наблюдая борьбу между Католичеством и Протестантизмом, Хомяков находил их обоих сильными в нападении друг на друга и слабыми в защите и полагал, что в результате — поле битвы останется за неверием.
Первопричину отделения Рима Хомяков, как я сказал, видит в искушении гордости, вследствие наследия и сохранившегося влияния веков языческой Империи. Римская гордость и юридическое мышление не могли ужиться в царстве любви и смирения, на которых зиждется внутреннее единство Церкви. В Риме "единый, живой закон единения в Боге вытеснен был частными законами, носящими на себе отпечаток утилитаризма и юридических отношений" (Т. II, с. 52). Право решения или, точнее, вынесения определений по догматическим вопросам, принадлежащее всей Вселенской Церкви, было перенесено Римом на одну его область. "Монополия боговдохновенности" была приурочена к одному престолу, древнейшему из всех на Западе и наиболее чтимому во вселенной. Авторитет Папы, заступивший место Вселенской непогрешимости, был авторитет внешний" (Т. II, с. 51).
Хомяков очень настойчиво говорил о том, что Церковь, как её исповедует Православие, не может быть названа авторитетом. Авторитет есть нечто для нас внешнее. Церковь же для христианина не авторитет, а истина "и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его" (там же). Христианин верует так, как учит Церковь не потому только, что он доверяет её представителям, а потому что он сам живёт этой жизнью. Ересь появляется, когда человек отделяется от этой жизни или хочет направить её по своему усмотрению.
Вера, по Хомякову, "не есть акт одной познавательной способности, отрешённой от других, но акт всех сил разума, охваченного и пленённого до последней его глубины живой истиной откровенного факта. Вера не только мыслится и чувствуется, но, т.ск., и мыслится и чувствуется вместе, словом, — она не одно познание, но познание и жизнь" (Т. II, с. 61). Поэтому "процесс исследования в применении его к вопросам веры, от неё же заимствует существенное её свойство и всецело отличается от исследования в обычном значении этого слова" (там же). "Исходное начало такого исследования — в смиренном признании собственной немощи. Иначе, говорит Хомяков, быть не может, ибо тень греха содержит уже в себе возможность заблуждения, а возможность переходит в неизбежность, когда человек безусловно доверяется собственным своим силам или дарам благодати, лично ему ниспосланным" (там же, с. 62). Истина лишь там, "где бесспорная святость, т.е. в целости вселенской Церкви, которая есть проявление Духа Божьего в человечестве" (там же, с. 63).
Когда Хомяков говорит о "целости Вселенской Церкви", он имеет в виду не совокупность верующих, живущих, в данный период на земле, а подлинно всю Церковь, как Тело Христово, возглавленное Самим Христом и обнимающее всех от века приобщённых к нему. Это упускали из виду некоторые православные критики Хомякова, которым казалось, что когда он говорит о согласии всей Церкви, необходимом для признания какого-либо учения догматом, то он подразумевал согласие Соборов из живущих на земле христиан. Если в отдельных случаях его выражения могли дать повод для такого понимания, то только будучи вырваны из его сочинений вне связи со всей его стройной концепцией Церкви.
Единение и единомыслие со всею Церковью в указанном выше широком смысле невозможно достигнуть одним разумом. Человек неизбежно отделяется от этого тела Церкви, когда полагается на разум. Тогда он впадает в рационализм, который Хомяков находит как у Рима, так и у Протестантизма. Римлянин присвоил рационализму областного мнения права, принадлежащие только вдохновению Вселенской Церкви, а Протестант-реформат поставил независимость личного мнения выше святости вселенской веры.
Значение отделения Рима и последующих протестантских разделений Хомяков видит в том, что появилась ересь против самого догмата о Церкви. Предшествующие заблуждения были одни более, другие менее преступные. Но это были заблуждения личные, не посягавшие на догмат Церковной вселенскости. "Романтизм первый создал ересь нового рода, ересь против догмата о существе Церкви, против её веры в самое себя. Реформа была только продолжением той же ереси, под другим именем" (т. II, с. 66).
Хомяков очень ярко говорит о беспочвенности Протестантизма и неизбежности его дробления. Он, вместе с тем, выносит строгий приговор модным теперь попыткам объединения Церквей без достижения единомыслия. "Предположим, говорит Хомяков, что надежда протестантских учителей исполнилась: предположим, что их учёные и богословы различных обществ, соединившись между собою, успели, не говорю — образовать союз (это было бы недостойно истинных христиан), но найти в себе самих начало единства, общее исповедание веры, суженной до наименьшего размера (минимум). Спрашиваю: для кого по совести, могло бы быть обязательно верование, установленное таким собранием? Несколько сотен съехавшихся учёных между собой согласны: но ведь тысячи отсутствующих учёных не разделяют их мнения. Где же Церковь? Образовалась новая секта — вот и всё" (т. II, с. 200-201). Тому, кто следит за объединительными попытками Протестантского мира, видно, насколько правильно было предвидение Хомякова. Он ошибся только в одном: он не предполагал даже возможности приглашения Православной Церкви к участию в таком движении, глубоко противном самому её существу, как единой хранительницы Истины. К сожалению, целый ряд представителей Православной Церкви, точнее Поместных Церквей, входят в такое протестантское по существу движение. Справедливость требует, чтобы мы отметили, что эти представители не раз указывали на то, что Православная Церковь уже обладает истиной и не нуждается в поисках её. Но, наравне с такими заявлениями, самое участие их в т.н. Экуменическом Движении остаётся двусмысленным и бывает на практике иногда связано с участием в демонстрациях чисто протестантского, интерконфессионального характера. Принадлежность православных к экуменическому движению в качестве рядовых членов часто приобретает привкус интерконфессионализма, особенно в глазах тех, кто не может уследить за всеми официальными оговорками и объяснениями.
Хомяков был прав, когда говорил, что старые ереси, осуждённые Вселенскими Соборами, изжиты в конец. Теперь христологические ереси, ложное учение о Духе Святом или иконоборчество не представляют прямой опасности для Православия. Они могут совратить отдельных людей, но не могут создать в недрах самой Церкви движения под личиной Православия, как это было в древности. Те соблазны, какие окружают нас теперь, относятся преимущественно к ложному учению о Церкви. Соблазны эти обозначились уже при Хомякове. Он дал их глубокий анализ и ярко, талантливо и убедительно дал на них православный ответ. Он вообще в значительной степени разбудил русскую богословскую мысль. Проф. прот. Флоренский справедливо отмечает, что всё, что есть выдающегося в русской богословской мысли последних десятилетий, было так или иначе связано с Хомяковым. К сожалению, именем его пользовались иногда и писатели чуждого ему по существу направления. Легко, однако, показать, насколько далеки от него такие писатели, как Булгаков или Бердяев. Подлинными последователями его богословия в России были Митрополит Антоний и его школа и особенно Архиепископ Иларион, который в своей замечательной диссертации, вышедшей в 1912 г., "Очерки из Истории Догмата о Церкви" [5] дал исчерпывающее научное обоснование тому же учению, какое проповедовал Хомяков, которого он очень высоко чтил.
Из богословской концепции Хомякова вытекали и его взгляды на историю и на значение Православной Руси. Не касаясь его суждений об истории более ранних эпох, отмечу, что он придавал большое значение влиянию на судьбы культуры и истории Запада рассудочного характера римлян, бравшей у них верх над внутреннею сущностью вещей. Формальность и рационализм были преобладающими началами в Римском образовании. Хомяков замечал, что в то время, как западные ереси преимущественно обращаются к вопросам о правах человеческой воли и правах самого человека в отношении к Божеству, восточные ереси больше обращаются к сущности Бога и человека. Пока Западный мир был в единении с Единой Церковью, эти разные характеры как бы дополняли друг друга. После разделения рационализм и формализм Рима стали приносить свои печальные плоды.
Напротив, характер славян и особенно Русского народа Хомяков находил более других восприимчивым к принятию и воплощению в жизни подлинного Православия. На этом убеждении зиждилось его т.н. славянофильство и вера в Россию. Но отсюда он выводил и особую ответственность России и Русского народа перед Богом и историей человечества.
Некоторые последователи Хомякова, увлёкшись позднее открытой им для них картиной высоты православных начал русской жизни, иногда впадали в некоторый своеобразный хилиазм. Его можно заметить даже у Достоевского.
Но сам Хомяков был слишком трезв духом и разумом, чтобы поддаться таким настроениям.
Если говорят, что слабость Победоносцева, при всем его выдающемся уме и таланте, заключалась в его пессимизме и чувстве обречённости, то у Хомякова, напротив, царствовал дух бодрости и оптимизма, несмотря на то, что он ясно видел окружавшее его зло. Как и Достоевский, он верил в Русский народ, верил в силу русской национальной идеи. Он верил и в возможность торжества этой идеи в мире. Но он верил именно в возможность этой победы, если Русский народ принесёт плоды покаяния в своих грехах, но не утверждал её неизбежность.
Вот почему с такой силой произносил он обличение русских исторических народных грехов и заметно ободрился, когда во время неудач Крымской войны увидел в русском обществе признаки покаяния.
Он выражал тогда веру в то, что Россия высоко станет перед миром в сиянии новом и святом, но это "не в пьянстве похвальбы безумной, не в пьянстве гордости земной", а "сурово совесть допросив" и "исцелив болезнь порока сознаньем, скорбью и стыдом" (Стих. "Раскаявшейся России").
Для России, также, как и для себя самого и для всякого христианина Хомяков больше всего боялся гордости, способной примешиваться ко всякому нашему доброму делу и движению сердца. Такую трезвость он воспитывал в себе и проповедовал другим. "Все творит благодать, говорит он. Покоряешься ли ей, в тебе совершается Господь и совершает тебя; но не гордись своею покорностью, ибо и покорность твоя от благодати" (Церковь Одна, § 10).
Хомяков замечателен был тем, что он, может быть, первый из русских ясно сознал свою ответственность перед остальным миром и во всеоружии западной образованности по новому стал проповедовать Европе истину Православной Церкви.
Эта проповедь Хомякова есть как бы завет и укоризна всем нам, живущим ныне среди народов Запада. Мы должны были бы перед ними исповедать истину своей веры, и сильным словом, и, ещё более, христианской и православной жизнью. И если бы Хомяков был ныне среди нас, то не сказал ли бы он нам самое горькое слово укоризны и скорби при виде наших разделений и отступлений?
Хомяков горел ревностью о вере. Он не мог молча и равнодушно слушать что либо исполненное лжи и заблуждения. При этом он никогда не сомневался в силе истины, хотя бы ложь и казалась внешне такой же непобедимой, как то было с Голиафом рядом с Давидом.
На могиле Хомякова была начертана надпись: "Блажени алчущие и жаждущие правды". Он действительно всю жизнь алкал и жаждал правды и служил ей. Обильно питаясь ею в своём благодатном единении с Церковью, он горел желанием преподать эту пищу и всем другим. Верим, что Господь даровал ему обетованное алчущим и жаждущим правды вечное блаженство!
Прот. Г. Граббе.
"Православный Путь", 1954.
[1] В. В. Завитневич. Алексей Степанович Хомяков. Киев. Т. I, 1902. Т. II, 1902. Т. III, 1913.
[2] Богословский Вестник 1916 г. №№ 7-8
[3] A. Gracieux, A. Khomiakov et le Mouvement Slavophile. Paris 1939.
[4] Т. II, стр. 138. Эта и последующие цитаты из II-го тома (богословские сочинения) сделаны по изд. 5-му, Москва 1907.
[5] Труд этот написан до принятия автором монашества и обозначен его светским именем — Владимир Троицкий.
Метки: рпцз, григорий граббе, хомяков